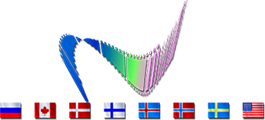Новости

Записала Дарья БОРИСОВА
Фото Натальи БАНТЛЕ
На встречу с мэтром, устроенную в один из дней фестиваля в Мурманской научной библиотеке, пришли совсем юные ребята – студенты, кинолюбители. Вопросы они заготовили практического характера: с чего начать съемки фильма, если ничего не знаешь о том, как делается кино, а киношкол в городе нет? Стоит ли снимать полюбившиеся театральные спектакли? Что лучше – пленка или цифра? На все это мастер отвечал серьезно и подробно и рефреном повторял: важно не то, КАК, НА ЧТО вы снимаете, а ЧТО вы снимаете. Клименко в своем деле не только практик, но и поэт. Слушать его необыкновенно интересно (в его случае тезис “оператор – не оратор” с блеском опровергается), ведь его рассказ не сводится к байкам из пестрой съемочной жизни или к техническим нюансам. Его заботят вопросы искусства кино. Нынешнее состояние кинематографа Юрия Викторовича не сильно вдохновляет, но он по-прежнему один из самых востребованных операторов, среди последних его работ – “Край” Алексея Учителя, вышеупомянутая “Самка” Константинопольского, ставший мифом до выхода на экраны (если таковой вообще когда-нибудь случится) фильм Алексея Германа по роману “Трудно быть богом”. А уж если заглянуть в полный список снятых Клименко фильмов, можно только руками развести в благоговейном молчании: тут и прекрасная восточная притча “Человек уходит за птицами”, снятая на советском “Узбекфильме” с Али Хамраевым, и новаторский, многострадальный фильм Киры Муратовой “Познавая белый свет”, и параджановская “Легенда о Сурамской крепости”, и соловьевские хиты “Чужая белая и Рябой”, “Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви”, “Дом под звездным небом”, практически все фильмы Алексея Учителя, многие картины Станислава Говорухина, легендарная “Anna Karamazoff” Рустама Хамдамова. Опустив ребячьи вопросы, мы постарались записать основные линии выступления Юрия Клименко.
Когда мы снимали кино на свалке…
В юности я жил в Днепропетровске. В городе был Дворец студентов, где размещались всякие любительские коллективы. Народный театр, балетная и изостудии. Был, в частности, фотокружок, была киностудия – туда я и ходил. Все мы, участники кружка, учились или работали. Обычно мы собирались в субботу, писали сценарий. В воскресенье утром шли в костюмерную, отбирали костюмы, и все воскресенье мы снимали фильм, обычно – на городской свалке. Там нам никто не мешал. Вернее, это была бывшая свалка в огромном овраге, там уже были повытоптаны тропинки, были построены кем-то маленькие домики. Такая странная среда. Скопище сарайчиков было похоже на город. По тропинкам удобно было бегать, снимать. Например, побег из тюрьмы. Приключения одних, которые гнались за другими. Одни были в кожаных куртках, а другие – в полосатых костюмах, в американских фильмах мы видели таких заключенных. В понедельник вечером мы все это проявляли, а в пятницу собирались и смотрели. Снято это было на8 мм– были такие камеры, теперь ими не снимают, а жаль. Каждый год в Москве проводился всесоюзный конкурс кинолюбителей. Был специальный отдел культуры, который вел работу с любителями. Только из нашего города туда ездило 20 коллективов! Существовали даже курсы кинолюбителей. До сих пор моей настольной книгой является “Справочник кинолюбителя”. Я всю жизнь нахожу там любительские ответы на профессиональные вопросы.
Кино надо делать. Начнешь делать, оно сделается. А учиться можно у великого кино. Ведь как учат художников: они приходят в музей, садятся и часами копируют Леонардо, Рембрандта. Они копируют и таким образом научаются. Когда я уже учился во ВГИКе, у нас был такой этап: каждому давали300 метровпленки, и надо было снять на них эпизод из твоей любимой картины. Например, из “Судьбы человека”. Сокурсники снимаются в качестве артистов. Есть камера “Конвас-автомат”, есть павильон со светом. Рельсов и тележек нет. А вы снимаете эпизод из “Судьбы человека”.
Так что копируйте. Раньше-то, чтобы увидеть кино, надо было пойти в кинозал, зарядить в проектор пленку. А теперь вообще все легко: вы можете гонять фильм на компьютере туда-обратно, выучить его досконально. Перенять приемы монтажа у лучших режиссеров, отдельные способы выражения мысли, систему создания художественных образов.
Как я снимал свой первый фильм Тяжелый был случай… Из института я вышел с большим количеством замыслов, но с полным отсутствием практики. И вот меня послали на Одесскую киностудию снимать фильм вместо заболевшего оператора. Завтра съемка, и вот второй оператор ведет меня смотреть, как расставлен свет. Вошел я в декорацию, попросил включить приборы. Я увидел море света, не мог сосчитать количество приборов… Ничего не понимаю: какой куда светит… У режиссера этого фильма был художественный руководитель. На следующий день, перед съемкой, сижу я в группе, рядом – режиссер и его худрук репетируют с актерами. Худрук меня спрашивает: “Юр, а ты чего не в павильоне?” Я ему, так, вскользь: “Да там все нормально”. Он: “Не, ну ты пойди, посмотри, у нас сейчас сцена такая-то”. “Такая-то? Хорошо, сейчас пойду”. Иду со вторым оператором (я был младше его), говорю: “Вы разговор слышали? Ну мы героя тут посадим, героиню там, камера здесь будет стоять, а свет вы поставьте, я приду, уточним”. Он так поразился: “Я? Свет?!” Ему, оказывается, никогда не доверяли свет ставить. И он с восторгом побежал делать. Я же опять вышел из павильона и на очередной вопрос худрука с небрежностью ответил: “Да там свет поправляют”. Ну с камерой я в тот день кое-как справился. А со светом я даже не понимал, что творится. Сижу ночью в лаборатории, слежу за плотностью негатива на проявке. Мне проявщицы говорят: “Чего ты сидишь, завтра все увидишь на экране”. А я смотрю на экранчик в проявочной машине и улавливаю: ах вот как оно получается при том свете, что был сегодня. Пошел в декорацию, то выключил, это. На следующий день сняли другую сцену. Опять ночью смотрю материал: ах, вот оно как при таком свете… Так и научился.
“Прогулка” с 8-миллиметровой камерой
Я вот рассказывал о 8-миллиметровой камере. Ею можно снимать все что угодно. Потрясающей мобильности средство. Никакими кранами, рельсами, прочими теперешними профессиональными средствами невозможно сделать такие движения. А в кино движение существенное значение имеет. Недаром на английском оно называется “movies”. Движущиеся картинки.
Несколько лет назад я снимал фильм “Прогулка”. Трое молодых людей идут по Невскому проспекту. Невский проспект с утра до ночи забит толпой. Я предложил снимать 8-миллиметровым аппаратом, вспомнив прием моей юности. Достали мы несколько этих камер, купили пленку. А теперь же проблемы с обработкой — прошло уже сорок лет, никто этого не делает. Это раньше на нее снимали семейную хронику. Оказалось, что проявляют ее только в Швейцарии. Сняли пробы, послали туда кассеты. Они проявили. Но мы же не можем показывать кино с домашнего проектора. Узнали, что в Германии переводят с8 мм(а это крошечный кадрик получается) на 35. Переслали кассеты из Швейцарии в Германию, они сделали нам негатив на35 мм, мы напечатали, и все были страшно довольны. Изображение состояло словно из вышитых цветов... Пленочная неоднородность все время шевелится... Совершенно обалденное впечатление производит. Цветное изображение, в принципе, можно довести до такого состояния, что пиксели себя так начинают вести. Но пиксели все-таки – какие-то нормированные квадратики. А там было совершенно ненормированное ощущение фотографической реальности, необыкновенный мир. Но выяснилось, что каждая кассета рассчитана на 2 минуты, и невозможно при таких условиях снять непрерывную сцену хотя бы на 10 минут... Что делать? От съемки с рук отказаться уже было невозможно. Мы уже поняли, что должны снимать кино на ходу. Решили снимать на видеокамеру. И снимали кино маленькой видеокамерой.
Я тяжело болел. Были проблемы с позвоночником, я не ходил. Нашли студента ВГИКа Пашу Костомарова. И я сидел в кресле, а Пашка ходил с камерой. Я был вроде как художественный руководитель. Он был моими руками. И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: Паша страшно высокий. Огромная разница: держишь ли ты камеру как обычно, на уровне глаз, смотря в видоискатель, или на уровне груди (как в случае Паши). Во втором случае больше свобода действий. У Паши камера попадала как раз на уровень лица актера. А мне пришлось бы снимать снизу, и я имел бы фоном небо. А в Пашином варианте за актером – нормальный городской пейзаж.
Я предлагал снять этот фильм за один день. Не делать дублей. Ну такой сценарий: идут молодые люди, знакомятся, ссорятся, мирятся. Но оказалось, что актерам все-таки тяжело протащить за день такое количество текста. Сняли за три дня. Плюс отдельно снимали вертолет, толпу на стадионе. А можно было и за день.
Была проблема с толпой на Невском проспекте. Ее ведь не уберешь и не заменишь массовкой. В случае, если бы мы положили рельсы, поставили камеру и звукооператора с “удочкой”, то, конечно, вся толпа смотрела бы в камеру. Но мы живем в эпоху, когда видеосъемка перестала быть новизной. Вы идете по улице, и уж кто-нибудь обязательно снимает что-нибудь на камеру. Я предложил выпустить актеров, которых никто не идентифицирует как актеров, и пустить с ними оператора с маленькой камерой. Кто-то идет и что-то снимает. Так и случилось. У нас в кадре прекрасная массовка (совершенно бесплатная!), которая ведет себя отлично, лучше, чем любые “исполнители массовых сцен”.
Изображение – это тоже язык
Мало кто правильно понимает, чем вообще занимается оператор. Это единственная кинематографическая профессия. Другие профессии есть в других сферах искусства.
Есть сценарий – литературное произведение. Иногда он имеет какую-то атмосферу. Но сценарий – это слова, напечатанные на бумаге. А в кино мы видим кадры. Последовательность кадров. Оператор занят нахождением литературному тексту адекватного изображения. Изображение – это тоже язык. Оператор – тот, кто находит адекватные пластические схемы, визуальные решения, которые будут адекватно изображать, например, роман Толстого. Мы читаем: Наташа – она такая-то и такая-то, а Болконский – такой-то. Мы читаем роман, и у нас возникают зрительные образы. Они у всех разные (поэтому мы часто бываем недовольны экранизацией – образы, увиденные нами на экране, не совпадают с теми, что родились по ходу чтения). Степень близости адекватного выражения и характеризует качество проделанной работы. Оператор этим как раз и занимается. Он делает это совместно с режиссером и художником. Актер – тема отдельная. Для оператора, кроме образа, который он создает, это еще и некая оптическая плотность в кадре. Вначале мы с художником и режиссером выдумываем, как все будет выглядеть. Часто, если вы возьмете литературное произведение, вы в нем увидите средний, общий и крупный планы. Или вы увидите цвет. Например, в описании пейзажа. И там не будет слова “зеленый”, но вы увидите этот цвет. Нахождением невербального адеквата вербальному и занята в подготовительном периоде творческая группа “режиссер – оператор – художник”. Возникают творческие споры. Режиссер говорит: “Это синее”. Оператор: “Нет! Это – зеленое”. А художник: “Извините, но это совершенно фиолетовое”. Каким-то образом три эти точки зрения сходятся. Как – вопрос дипломатии.
Хорошо, если совпадают эстетические вкусы, уровень культуры, образования оператора режиссера и художника. Когда не совпадают – получается хуже.
Часто оператор в кино является сильным движителем. Он предлагает такой взгляд на драматургическую проблему, такой новый способ смотрения на мир, что часто именно это является определяющим в изменении кинематографа.
На картине Параджанова “Тени забытых предков” оператором был Ильенко, и даже сам Параджанов любил повторять: “Это не моя картина, это картина Ильенко”. Параджанов предложил интересную этнографию, а Ильенко ее здорово визуализировал. Это вызвало сильный всплеск в кинематографе.
Целый день лежишь в грязи или дышишь через трубочку
Я снимал картину “Легенда о Сурамской крепости” с Параджановым. Я думал, что я очень умелый, очень талантливый, очень художественный, очень молодой. Я во все картины много всего вкладывал. С творчеством Параджанова я был знаком, очень его любил. Думал: ну что я могу туда внести? Понял, что ничего я не могу туда внести и даже права такого не имею. Он изобрел вид кинематографа, ранее неизвестный. Фронтальное кино. Статичная картина, на которой актеры общаются “в зеркало”, камера никуда не ездит, в кадре ноль динамики (только, может, кони проскачут). В этой картине нет психологических характеристик, нет характеров. Вернее, есть, но статуарные. Черно-белые характеры. Злодей – сразу злодей, герой – сразу герой. Я понял, что моей задачей является бережная фиксация того, что режиссер перед камерой построил. Мир кино – не реальность. В любом случае это какая-то параллель. Даже домашнее видео уже не реальность. И мир, который Параджанов создавал перед аппаратом, стал для меня догмой, которую я не имел права пересечь.
Если в кадре стоят 10 человек, то детали костюма плохо различимы. Это общий план. А костюмы Параджанов делал сам. Перед съемкой он 4 часа всех сам одевал. На каждом завязывал бантики, навинчивал что-то, подбирал серебряные сережки, привешивал кинжал, завязывал пояса, платки, прибамбашечки какие-то... Для того чтобы зрители это увидели, мне надо было использовать свет, который дал бы возможность все это хорошо разглядеть. Это не рассеянный, а направленный свет – такой помогает хорошо увидеть детали. Даже без всякого художественного творчества у оператора существует техническая задача: это должно быть видно. Я объехал 4 студии и собрал 36 объективов, из которых оставил 3, выбрал самые резкие. Ими я и снимал. Потому что из 10 человек жалко потерять лицо даже одного, упустить деталь костюма. Все имело значение в параджановском кадре.
На картине “Трудно быть богом” Алексея Германа очень трудно было работать. Герман воссоздавал средневековый город, а в средневековом городе грязи было по пояс. Были даже специальные люди, которые переносили горожан с одной стороны улицы на другую и за это получали деньги. Узкие тротуары, а между ними – что-то типа ямы, и там едут лошади и повозки, идут быки. То же самое было в замках. Ведь там внутри были и харчевни, и таверны, и рынки. Это города, окруженные стенами. Все это мы увидели в Чехии. В Чехии за сохранностью замков очень следят. Там даже нельзя топтать траву внутри замка. Все это застилалось холстом, на него клался привезенный торф – это и была грязь. Когда съемки заканчивались, торф вывозился, ткань снималась, трава под ней оставалась. Но торфа этого во время съемок было по пояс. И как ни вертись, ты все равно весь в нем. То прыгнешь, то точку поменяешь, и к концу смены выходишь весь в грязи. Стояло 6 – 8 пожарных машин – они поливали весь этот торф. Герман – режиссер-натуралист. У него репетиция должна быть точно такая, как съемка. Если 10 дней идет репетиция сцены, 10 дней пожарные машины льют воду. Поскольку в кино естественный дождь почти не виден, его изображают обычно струи из пожарных машин – тогда капли получаются крупнее, поток сильнее. И вот вся группа, мокрая, 10 дней участвует в этих репетициях. На третий день Светлана Кармалита (жена и помощница Германа) меня спрашивает: “Юра, как, по-вашему, сцена?” Я говорю: “Да уже снимать нужно”. Она отвечает: “Что вы! Она еще такая сырая. Леша ее только-только размял”… У Ярмольника все булавы и мечи настоящие. А булава весит 20 килограмм… На нем висят три булавы, четыре меча, восемь шпаг на перевязи, шлем и латы. Сдохнуть можно! Но если эта картина когда-нибудь выйдет на экран, вы увидите, что она очень хорошая. Уж я всякое повидал, но такого не видел. Снимая в Чехии, мы проявляли материал на студии “Баррандов”. Чехи сначала говорили: “Да-да, у нас сейчас много таких исторических картин снимается”. Услуги у них дешевле, там любят снимать американцы, французы. Я все время езжу в лабораторию смотреть материал. Через месяц они мне говорят: “Слушайте, а у вас картина-то совсем другая… Не такая, как у американцев”.
Часто работаешь в совершенно нечеловеческих условиях. Целый день лежишь в грязи, в луже или дышишь через трубочку. Снимая “Край”, я год провел в паровозах. Среди угля, механики. Холодная зима, пар, дым, полные уши сажи. Каждый вечер начинаешь мыть и до утра не вымываешь. Но ничего этого не замечаешь, если интересная картина.
Рената Литвинова – пластически совершенное существо
Я взял сюда, на фестиваль, сценарий детектива и работаю по вечерам. Я рисую картинки. Я прочел две страницы и понял, про что эта сцена. Как ее рассказать? Диалог, слова – это к актерам. А мне нужно эту сцену рассказать кадрами. В изображении нет слов, но сцена должна быть понятной. Я рассуждаю: поскольку здесь герой должен спрятать свое намерение, мы должны дать картинку, в которой нет его глаз. Тогда, может, снять его затылок, а тревогу передать за счет фона?
На самом деле, в кино слова не нужны. Кино прошлого называли Великий Немой, а теперь у нас Великий Слепой. Все в кино перешло в область текста. Никто больше не рассказывает историй картинами. Теперь в кино мы имеем текст на крупных планах.
Сценаристка Рената Литвинова иногда играет в кино. Мне не всегда нравятся фильмы, в которых она играет. Но когда она на экране, могу смотреть на нее бесконечно. Было бы хорошо, если бы она вообще была актрисой. Она создана для кино. Это вопрос пластики. Она – пластически совершенное существо. Это как с животными. Страшный хищник может быть очень красивым в движении. Каждая картина – это искусственное образование. Но я могу так поставить свет, что у вас создастся абсолютное ощущение реальности. Вы не поймете, что это сделано приборами. Вы будете думать, что это свет из окна, а за окном – солнце, оно освещает дерево и т.д. Я также люблю манеру, когда в картине все искусственное, специально сделанное. Вспомните фильм “Летят журавли”, снятый оператором Сергеем Урусевским. Там весь свет условный, нереалистичный. Он создает свой мир, который тем не менее вызывает у тебя ощущение реальности. Первые 10 секунд ты видишь, что это “не так”, а потом ты видишь, что это – даже лучше, чем “так”. Вспомните сцену, когда Вероника взбегает по лестнице разбомбленного дома, останавливается на площадке, перед ней качается абажур. Квартиры нет. Стена и рядом окно, и свет от окна должен падать на нее. Окно слева, а свет падает справа. Так в жизни не может быть, это искажение картины жизни. И от этого возникает слом ее судьбы, характера.
Актер в фильме играет подчиненную роль. Он – часть замысла. Через актера легче воплотить идеи, потому что его речь и вид более всего понятны человеку. От интонации актера многое зависит. Вспомните Татьяну Самойлову в “Летят журавли”, или в “Неотправленном письме”. От одного тембра ее голоса сильно колотить начинает! Голос актера волнует. И костюм имеет значение. Актер – наиболее выразительная часть созданного мира. Можно снимать кино и без актера, но зрителю будет сложнее его воспринимать. Или тогда надо иметь образованного зрителя. Такого, который будет в состоянии считывать пластический язык. Это как с классической музыкой. Ее все ругают, потому что она недоступна. Но, если ты ее слушаешь и начинаешь понимать, никакая другая становится не нужна.
Я участвую в создании параллельных миров
Классическая операторская группа состоит из пяти человек. Я (главный оператор), мой второй оператор (он занимается организацией работы, потому что я занят выяснением творческих вопросов с режиссером, художником, декоратором, актерами), человек, который сидит на фокусе (он наводит резкость) – несмотря ни на какие достижения технического прогресса, автоматизировать этот процесс так и не удалось. Невозможно просчитать, куда и в какой момент и с какой скоростью должен переводиться фокус. Это оказалось отдельным искусством. Иногда это бывает так художественно сделано, что я поражаюсь. Раньше, когда кино больше снимали в декорациях, актерам даже метки рисовали, по которым двигаться. Сейчас более свободно все, стала более раскованной сама актерская игра. Больше импровизации, нет репетиционной заезженности (она часто становится заметной на экране). Кино стало более реалистичным – на площадку приходишь со своими бумажками, но на площадке все иначе.
Бумажки – это некий скелет, схема, по которой ты на площадке работаешь. Оказывается, что сюда нельзя поставить камеру, а там нет того фона, на котором ты хотел дать затылок. Там не построишь дом, в котором вдруг откроется форточка и мелькнет солнечный луч.
Светом занимается оператор-постановщик, и это основная его задача. Композиция и свет – вот две его основные задачи. Композиция первична, свет вторичен. Но бывают картины, в которых свет первичен. Еще в группе оператора есть бригадир осветителей, у которого примерно пять человек осветителей. Есть еще человек, который занимается пленкой – заряжает-разряжает, учитывает, проявляет и привозит обратно. Не считая механика, который занимается тележкой. Это тоже целое искусство. Вы знаете, что в лучших американских фильмах режиссер сам двигал тележку, чтобы был нужный ему ритм. Он же монтирует потом, а на съемках у него в голове уже определенный ритм существует: мне надо будет, чтобы камера подъехала именно так, а здесь – чтобы она неслась и резко встала.
Сейчас у режиссера и оператора очень много техники контроля отснятого материала. А раньше это растягивалось на несколько дней. Сняли – проявили – отсмотрели. Через день. В лучшем случае! А иногда уж и картину закончишь снимать и только тогда материал и увидишь. Если экспедиция где-то очень далеко и нет средств доставки. Самолет – раз в неделю. Только мастерство и выручает. Бывает, что ты ограничен. Например, в пустыне – только три дня дует особый ветер “Афганец”, который нужен в кадре как атмосфера. И ты должен все снять за эти три дня.
Количество дублей бывает разным. Мне достаточно одного-двух. А у режиссера могут быть проблемы с актерами, он хочет сделать варианты. Бывает и 25, и 46 дублей. Бывает, сам просишь дубль. Ведь движение – это музыка, а если ты чувствуешь, что нарушил эту музыку, одна нота выпала, надо сделать так, чтобы она была.
Вот вас волнуют фотографическое качество и разрешение. Вот та 8-миллиметровая пленка, о которой мы говорили вначале – там зерна больше, чем изображения. Но в искусстве это не обязательная категория – разрешение. Необязательно, чтобы это было лучшим по качеству. Главное – что вы снимаете. Оно может быть очень плохо снято. Вернее, может быть очень плохое изображение. Совершенно некачественное. Намеренно так сделанное. Важно не то, на какой носитель вы снимаете, а что вы снимаете.
Однажды на Новый год я оказался в чужом городе, в одиночестве, в чужой квартире, где стоял крошечный телевизор с крошечным экраном. В 12 часов я зажег свечи, выпил рюмку. Новый год, хочется праздника. Делать было нечего, и я решил включить телевизор. Шел фильм Бергмана. И я смотрел Бергмана на крошечном телевизионном экране. Казалось бы, ничего страшнее себе представить невозможно. Но я смотрел так! У меня был культурный шок. Значит, когда что-то хорошо, это неуничтожимо.
У меня есть возможность создавать параллельный мир. Любое художественное творчество это предполагает. Мы с вами сейчас сидим в реальном, а если нас поделить на кадры, написать диалоги и снять на пленку, то мы создадим параллельный мир. Он будет похож на наш, но он будет другим. Он может быть лучше или хуже, в нем может захотеться жить, а может не захотеться, но он станет другим. Прежде чем я этот мир на пленке зафиксирую, этот мир надо создать перед моей камерой. Я не могу снять то, чего нет. Художник может на холсте написать по воображению, писатель – ручкой на бумаге. А я могу только так: построить, каким-то образом построенное осветить, скомпоновать и только после этого снять. Создание этого параллельного мира и является наибольшей радостью моей работы.
http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/article.jsp?number=960&crubric_id=100444&rubric_id=210&pub_id=1143822
 назад в раздел Пресса
назад в раздел Пресса